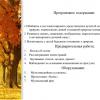Несмотря на наметившиеся ещё в ранее Средневековье претен-зии римских пап на светское и духовное мировое господство, их ав-торитет в начале XI в. был низок как никогда. В IX-X вв. в среду ду-ховенства проникают обычаи и нравы, свойственные представителям светского феодального общества . Папы, ведя вполне светский образ жизни, перестают быть теми образцами духовности и нравст-венности, которыми они являлись в первые века христианства. Кроме того, со времён Оттона I папы находились в полной зависи-мости от императоров Священной Римской империи . Императоры возводили на папский престол угодных себе лиц, а также полно-стью взяли в свои руки инвеституру — назначение епископов на должность и наделение их землёй. С ослаблением императорской власти всё большее распространение получала симония — продажа церковных должностей за деньги.
Резкое усиление папской власти было связано с возрождением за-падноевропейского монашества, особенно в клюнийском движении. Клюнийцы резко осуждали симонию и проповедовали целибат — без-брачие духовенства. К середине XI в. Клюнийская конгрегация на-считывала уже 65 монастырей. К этому времени клюнийцы приобре-ли значительное влияние в католической церкви, занимали высшие церковные должности, в том числе и должности кардиналов.
В 1059 г. на Латеранском соборе в Риме было принято решение о том, что папу впредь будут избирать из своего состава сами карди-налы. В 1073 г. Папой под именем Григория VII был избран клюнийский монах Гильденбранд. После вступления на папский пре-стол он стал пресекать случаи симонии и насаждать целибат.
Григорий VII и Генрих IV
Воспользовавшись феодальной смутой в Германии, Григорий VII потребовал от императора Генриха IV передать ему права на инвести-туру епископов. Однако Генрих подавил мятеж знати, а созванный им собор немецкого духовенства в г. Вормсе потребовал от Григория VII уйти с престола. В ответ Папа отлучил императора от церкви. Впер-вые император был исключён из числа христиан. Герцоги и епископы Южной Германии и Саксонии отказались повиноваться Генриху IV.
Хождение в Каноссу
В этих условиях зимой 1077 г. Генрих IV был вынужден отпра-виться на север Италии, в замок Каносса , где в это время находил-ся Папа, и умолять его о прощении. Как глава христианского мира, Папа был вынужден снять отлучение с императора, но королевский сан ему так и не вернул. Более того, к этому времени относится из-дание Григорием VII «Диктата папы». В этом сочинении были изло-жены основы новой теократии: все светские правители должны быть непосредственными вассалами Папы и приносить ему ленную присягу; Римский Папа получает право низлагать императора по своему усмотрению.
Но Генрих IV, получив папское прощение, восстановил свою власть в Германии и в 1081 г. во главе войска отправился в Италию. Папа был вынужден бежать на Сицилию и по дороге умер (1085 г.).
Дальнейшая борьба за инвеституру
Смерть Папы не привела к прекращению борьбы. Позицию Гри-гория VII в вопросе об инвеституре продолжали отстаивать папы Урбан II (1088-1099 гг.) и Пасхалий II (1099-1118 гг.). В 1093 г. Урба-ну II удалось поднять против Генриха IV мятеж, возглавляемый его старшим сыном Конрадом. Генрих смог справиться с этим мяте-жом, но в декабре 1104 г. Папа Пасхалий II склонил к выступлению против Генриха его младшего сына, который также носил имя Ген-рих. До конца своей жизни Генрих IV (он умер в 1106 г.) боролся за власть со своим сыном.
Сын Генриха IV Генрих V стремился путём переговоров решить вопрос об инвеституре. В 1122 г. был заключён Вормский конкор-дат: инвеститура в Италии и Бургундии полностью переходила в ру-ки папы, а в Германии за папой сохранялась духовная инвеститура, то есть рукоположение епископов в сан, а за императорами — свет-ская инвеститура, то есть введение их во владение леном.
На протяжении XII в. папская власть продолжала усиливаться и достигла своего пика при Иннокентии III (1198-1216 гг.). Рим-ский Папа нередко выступал в качестве арбитра в международных спорах и даже добился того, что короли Англии и Сицилии призна-ли его своим сюзереном.
Закат могущества папской власти
Закат папского могущества начался в конце XIII в., когда в ходе конфликта между Папой Бонифацием VIII и французским королём Филиппом IV Красивым победа осталась за светским владыкой. Ко-роль заручился поддержкой своих подданных, и наложенное на не-го папское отлучение оказалось неэффективным. Материал с сайта
После смерти Бо-нифация VIII новым Папой под именем Климента V был избран французский епископ. В 1309 г. он перенёс папскую резиденцию из Рима в Авиньон, расположенный рядом с владениями французско-го короля, где она и оставалась до 1377 г. В этот период, получив-ший наименование авиньонского плене-ния пап , папы находились под сильным влиянием королей Франции.
В 1378 г. в ка-толической церкви началась великая схизма (раскол): один Папа был избран в Риме, второй — в Авиньоне. Европей-ские государства разделились на сторон-ников римского и авиньонского первосвя-щенников. Церковный собор 1409 г. в Пи-зе лишь усугубил ситуацию: появился третий Папа. Лишь церковный собор 1414-1418 гг. в Констанце положил конец
Взаимоотношения церкви и государства со времён глубокой древности были одним из основополагающих факторов государственного устройства и общественной жизни. С момента зарождения государственности, церковь претендовала быть её системообразующим фактором. Нередко ей удавалось починить себе всё государственное устройство, таких исторических примеров много. Как в истории, так и в современности.
Светское государство как оптимальный способ сосуществования разных людей
К основным принципам светского государства, в котором церковь категорически отделена от принятия каких бы то ни было государственных решений, человечество пришло не сразу. На протяжении античности и средневековья церковные иерархи с разной степенью успешности пытались подмять и подчинить себе государственную власть. Они всегда мотивировали свои претензии некими данными им свыше на то священными правами. Но простой обзор результатов осуществления этих претензий свидетельствует об упадке обществ и государств, где церковь реально главенствовала. Причем наблюдается это на протяжении столетий: от средневековой католической Испании до современных исламских Ирана и Афганистана.

Дорвавшись до власти, церковь начинает калёным железом выжигать всё, что ей представляется несоответствующим религиозным принципам. И общественное развитие стремительно деградирует. Светское государство стало возможным только с развитием капитализма и товарно-денежных отношений. Простой прогресс экономики поставил клерикальные круги на соответствующее им место, он не позволяет им высовываться за пределы храмов, церквей и мечетей. Светское государство - это (прежде всего) отделение церкви от претензий на государственную власть и отделение общеобразовательной школы от церкви. Это ни в коем случае не означает какого бы то ни было ущемления прав людей исповедовать свою веру. Напротив, светское государство стоит на страже интересов верующих и охраняет их от притеснений на религиозной почве. Это особенно актуально для многонациональных и многоконфессиональных стран, таких как Россия.

Россия - светское государство
Этот основополагающий принцип записан в её конституции. И Российская Федерация по другим принципам существовать и развиваться просто не может. В России исторически обитает множество больших и немногочисленных народов и этнических групп. На её территории веками исповедуются все мировые религии и множество мелких конфессий как таковых. Для такого государственного образования отказаться от принципа светского государства было бы самоубийственно. Светское государство - это равенство людей всех вер перед единым государственным законом. Конечно же, не всё в России безоблачно. Определённому числу религиозных экстремистов разных конфессий принцип светского государства явно не по душе. Они всё наглее заявляют свои претензии на изменение действующей конституции. Мракобесы всех мастей претендуют на придание своей религии статуса государственной. Но людей, обладающих элементарным здравым смыслом, в Российской Федерации пока большинство.
Дальнейшему укреплению государства и самодержавия должны были способствовать и церковные реформы. В 1619-1633 гг. патриарх Филарет, стремясь восстановить пошатнувшееся во время Смуты положение церкви и повысить ее самостоятельность, расширил монастырские землевладения, учредил патриарший двор, передал в ведение патриарха судебную власть над духовенством и монастырскими крестьянами. Однако в 40-е гг. XVII в. на смену этой недолговременной политике приходит традиционный курс самодержавия - повышение роли монарха в делах церкви, ограничение политического и экономического могущества духовенства. Соборное
Уложение, каравшее сожжением на костре за любую критику царя, Бога и церкви, тем не менее несколько сократило церковные привилегии:
2. передавало управление церковными делами специально учрежденному монастырскому приказу.
Ограничению могущества церкви должны были служить исправления богослужебных книг и церковных обрядов (инициатор - Стефан Вонифатьев).
Возглавил церковные реформы сторонник греческих православных канонов патриарх Никон. Перемены были одобрены церковным Собором и царем. Однако усиление политического влиянии Никона не устроило царя и привело к падений всесильного патриарха. Реформа вызвала раскол церкви, раздела общество на ее сторонников, во главе с царем, и противников (старообрядцы) и главе с протопопом Аввакумом. Старообрядчество приобрело характер массового социального протеста отражавшего настроения различных слоев общества:
Ø недовольство сельских и городских низов ухудшением своего положения;
Ø неприятие обществом усиления роли государства, его вторжения в сферу духовной жизни.
Это определило подход власти к старообрядцам: начались гонения на раскольников. Протопоп Аввакум был сослан в Пустозерск и в 1688 г. сожжен.
Взаимоотношения Церкви и государства развивались в контексте истории, в ходе развития которой государство постоянно изменялось. Государство, как необходимый элемент жизни в мире после события грехопадения, является тем ограждающим компонентом от всевозможных проявлений греха. Церковь предписывает христианам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, а также молиться за власть, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:2). Исходя из развитого канонического сознания, Церковь не должна брать на себя государственные функции: противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя политических функций, предполагающих принуждение или ограничение. Но Церковь имеет право обратиться к государственной власти с просьбой употребить власть. Государство не должно вмешиваться в духовную жизнь Церкви, в ее вероучение, литургическую жизнь и духовническую практику, равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений, за исключением тех ее сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь вправе ожидать от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям.
В православной традиции сформировалось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государством. В то же время в истории этот идеал осуществлялся не часто, если вообще осуществлялся. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения - явление двустороннее, то исторически указанная идеальная форма могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь величайшей народной святыней, иными словами, в государстве православном. Причем, если в государстве, где Православная Церковь имеет официальный статус, связанный с особыми привилегиями, существуют такие религиозные меньшинства, права которых вследствие этой привилегии ущемлены, то трудно говорить о том, что церковно-государственные отношения урегулированы идеальным образом. Поэтому, очевидно, лишь монорелигиозное, моноконфессиональное православное государство может без ущерба для справедливости и общего блага своих граждан строить отношения с Церковью идеальным образом.
Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского, светского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. 81-е Апостольское правило гласит: «Не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя управления, но неупустительно быти при делах церковных». О том же говорится и в 6-м Апостольском правиле, а также в 10-м правиле Седьмого Вселенского Собора.
Святые каноны воспрещают священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения церковного начальства. Так, 2-е правило Сардикийского Собора гласит: «Аще который епископ, или пресвитер, или вообще кто-либо из клира без соизволения и грамот от епископа области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет пойти к царю: таковой да будет отрешен и лишен не токмо общения, но и достоинства, какое имел… Аще же необходимая нужда заставит кого идти к царю: таковой да творит сие с рассмотрением и с соизволением епископа митрополии и прочих тоя области епископов, и да напутствуется грамотами от них». Модели взаимоотношений между Православной Церковью и государством формировались как на основе церковных представлений об идеале таких отношений, так и на основе исторической реальности.
Внимательный взгляд на историю Церкви, Ее реакцию на предлагаемые жизнью, обществом, вопросы, даст нам картину, как пишет Церковь Сама о Себе и Своей роли в обществе. Как наиболее близким нам по содержанию выступает IV век, время Иоанна Златоустого, когда Древняя Христианская Церковь, подобно РПЦ в 20 веке, из прежде гонимой превращается в легальную со средней или максимальной степенью поддержки. До этого в продолжение трех веков (или 70 лет) Церковь существовала как государство в государстве, гонимая им, по словам В.В. Болотова «все-таки была независима от него в своей внутренней жизни, в своем устройстве». Но с обращением имп. Константина Великого ситуация изменилась в корне церковной истории того времени. Сократ писал: «С тех пор, как литераторы сделались христианами, он них начали зависеть дела церковные…». Император теперь собственной волей созывал Вселенский Собор и своей рукой утверждал их, после чего они «приобретали силу законов в Римской империи». Характеризуя последствия соединения Церкви и государства, В.В. Болотов отмечает как следствие «некоторую зависимость представителей Церкви от представителей государства, что тяжело сказалось на развитии церковной жизни, но, что интересно, «неблагоприятное исходило не столько от государства, сколько от Церкви. Последняя, в ее представлениях, и сменах оказалась менее подготовленной к этому новому союзу; реагировало на государство с меньшей энергией и правильностью, чем это следовало бы ожидать, имея в виду трехвековое геройское существование ее при самых неблагоприятных внешних обстоятельствах». Интересно, первое, что замечает Церковь при Ее легализации – это падение нравственности, при массовом притоке прихожан. Свт. Иоанн Златоуст с горечью констатирует: «Из числа столь многих тысяч нельзя найти более ста спасаемых, да и в этом сомневаюсь». Таким образом, это слияние, прежде всего, затронуло основную задачу Церкви – спасение Своих членов. У авторов того времени мы не найдем развитую теорию взаимоотношения Церкви и государства. Это слияние Церковь восприняла как должное, только у блж. Августина были разработки, приведшие впоследствии к появлению доктрины «двух мечей», согласно которой «обе власти церковная и государственная, одна непосредственно, другая опосредованно восходят к Римскому епископу». В Восточной Церкви на эту тему можно найти ответы и у Иоанна Златоуста. Он, как и блж. Августин поставляет власть выше светской, становясь даже на позиции противления в случае принижения Церковных прав. «Получивший священство есть более властный блюститель над землей … нежели носящий багряницу … надо отказаться скорее от жизни, чем от прав, которые уделил Бог свыше в жребий этой власти». Очевидно, что в системе Иоанна Златоуста, как выразителя мнения той эпохи императорская власть подчинена и зависима по отношению к Церкви. Причем это мнение поддерживают и императоры. И поддерживали государственными указами некоторые Церковные традиции, как, например, почитание страстной седмицы, превращая тем самым империю в Церковь. В свою очередь Церковь не нарушала существующего строя и своим авторитетом одухотворяла законы империи, проповедуя подчинение властям уже «за благоговейных страх перед Богом установлением их», чтобы не шло все «без порядка и разбора». Таким образом, император в представлении того времени, выразителем которого явился Иоанн Златоуст, был лишь одним из членов Церкви, в Которой все равны. Должный сообразовывать законы империи с церковными, чтобы остальные члены Церкви, и он сам могли подчиняться его повелениям.
В Византии были выработаны основные принципы церковно-государственных отношений, зафиксированные в канонах и государственных законах империи, отраженные в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства. Суть симфонии составляют обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Епископ подчиняется государственной власти как подданный, а не потому, чтобы епископская власть его исходила от представителя государственной власти. Точно так же и представитель государственной власти повинуется епископу как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому, чтобы власть его происходила от власти епископа. Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее моральной, духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для благовествования и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства.
В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий в основе симфонии Церкви и государства: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». Руководствуясь этой нормой, император Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу государственных законов.
Классическая византийская формула взаимоотношений между государственной и церковной властью заключена в «Эпанагоге» (вторая половина IX в.): «Мирская власть и священство относятся между собою, как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства». Ту же мысль находим и в актах Седьмого Вселенского Собора: «Священник есть освящение и укрепление императорской власти, а императорская власть посредством справедливых законов управляет земным».
Классическая византийская симфония в Византии не существовала в абсолютно чистой форме. На практике она подвергалась нарушениям и искажениям. Со стороны государственной власти не один раз Церковь оказывалась объектом цезарепапистских притязаний. Суть их заключалась в том, что глава государства, царь, претендовал на решающее слово в устроении церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия у таких посягательств, всегда воспринимавшихся Церковью как незаконная узурпация, была еще и историческая причина. Христианские императоры Византии были прямыми преемниками языческих римских принцепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: pontifex maximus - верховный первосвященник. Эта традиция, в ослабленной форме, время от времени проявлялась и в действиях некоторых христианских императоров. Всего откровеннее и опаснее для Церкви цезарепапистская тенденция обнаруживалась в политике императоров-еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.
У русских государей, в отличие от византийских василевсов, не было наследия языческого Рима. Поэтому симфония церковной и государственной власти в русской древности осуществлялась в формах более правильных и церковных. Впрочем, отступления от нее также имели место, хотя в одних случаях носили индивидуальный характер (тираническое правление Иоанна Грозного), в других имели характер более мягкий и сдержанный, чем в Византии (например, в столкновении царя Алексея Михайловича с патриархом Никоном).
Взаимоотношения между государственной властью и Православной Церковью составляли стержень политической системы Российского государства. В допетровской России царская власть была ограничена не только традиционным, обычным правом, но и принципиальной независимостью от царя высшей церковной власти - освященного Собора и патриарха. Несколько попыток московских государей узурпировать власть над Церковью явились лишь посягательством на норму, на право, а нормой все-таки оставалась симфония, суть которой с лапидарной ясностью была сформулирована Большим Московским Собором 1666-1667 гг.: «Да будет признано заключение, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – церковных, дабы таким образом сохранилась целой и непоколебимой во век стройность церковного учреждения».
С вступлением на Всероссийский престол Петра Великого началась новая эпоха в истории Русской Церкви. Патриаршество как институт было упразднено, а высшим органом церковного управления с 1721 года стал Святейший Правительствующий Синод. В 1723 году Константинопольский Патриарх Иеремия III признал новый орган церковного управления в России действительным, а в своей грамоте назвал Святейший Синод «возлюбленным о Господе братом». Святейший Синод был подчинен императору Всероссийскому. Согласно указу царя Петра I от 11 мая 1722 года, Синод состоял из архиереев и обер-прокурора, который был поставлен для надзора за работой Синода. «Обер-прокурор – есть представитель государственной власти в Святейшем Синоде и посредствующее лицо между Синодом, с одной стороны, и верховной властью, а так же центральными государственными установлениями с другой, – пишет священник Т. Тихомиров, – В ведении обер-прокурора кроме некоторых учреждений при Святейшем Синоде состоят прокуроры синодальных контор и секретари духовных консисторий, через которых он следит за исполнением законных постановлений по духовному ведомству. Обер-прокурор назначается и увольняется Высочайшим именным указом, по делам своей службы отвечает только перед государем. В ряду государственных высших сановников он сравнен с министрами».
Таким образом, в эту эпоху государственная власть подвергает церковную жизнь жесткому контролю. Соборы уже не созываются, так как Святейший Синод считается малым собором и действует не только как орган высшей церковной власти, но и как правительственное учреждение. Святейший патриарх Кирилл (Гундяев), рассуждая по этому поводу, замечает: «В XVII веке… с развитием национального церковного законодательства, все более суживается практическое значение византийских норм, даже до субсидиарного (вспомогательного) источника права. В Российской империи источниками церковного права служили: 1) императорское церковное законодательство (высочайшее повеление и именные указы по церковному ведомству, высочайше утвержденные указы и определения Святейшего Синода и доклады обер-прокурора); 2) указы и определения Святейшего Синода; 3) государственное о Церкви законодательство. Первостепенное значение имели: Регламент, или Устав, Духовной Коллегии (25.01.1721), Устав духовных консисторий (27.03.1841), Устав духовно-учебных заведений (1884), Положение об управлении Церквами и духовенством военного и морского ведомства (12.04.1890).В Своде Законов Российской империи касались тех или иных сторон церковной жизни: в т. IX (законы о состоянии) – законы о белом и черном духовенстве, в т.XII (устав строительный) – законы о построении церквей и так далее».
Петр лишь довел до крайности служение Церкви интересам государства, полностью подчинив православие политическим выгодам императорской власти. Добился он этого ценою грубых канонических нарушений, запретив после смерти патриарха Адриана выборы нового первосвятителя, а в 1721 году учредив правительствующий Синод, для работы в котором светской властью назначались духовные лица (с целью надзора за деятельностью Синода император создал должность обер-прокурора). Петр не только подчинил церковь имперской бюрократии, но и оторвал ее от общего движения российской национальной культуры, а духовенство превращалось в замкнутую социальную касту. Петр был классическим тоталитаристом. Главной чертой в его реформах, как пишет Г. Флоровский, было не западничество, - западниками были и его отец, и брат его Федор, и сестра Софья, и все ведущие государственные мужи конца 17 века. Главная суть реформ была в их тоталитарном характере, в стремлении Петра поставить все и вся на службу государству, лишить человеческую личность и общественные структуры любых признаков автономии. Он просто усовершенствовал Московское служилое государство, да прибавил к этому всеобщему закрепощению Церковь, превратив ее из партнера государства по образу византийской симфонии (сколь бы эфемерно ни было это партнерство в эпоху Московского царства, нарушение партнерства государством в допетровское время воспринималось именно как нарушение, а с ликвидацией патриаршества Петром то, что было нарушением, стало «нормальным» и законным порядком), в слугу, по подобию протестантской Пруссии, создав из России полицейское государство. Оно серьезно было подорвано реформами Александра Второго и еще глубже «манифестом 17 октября» 1905 года, но остатки этого полицейского государства просуществовали до февраля 1917 года, а затем расцвели под властью большевиков, о чем Петр мог только мечтать.
Система Петра, касающаяся отношений Церкви и государства, восходила к двум источникам. Одним их них был законодательный образец, существующий в протестантских государствах. Другой источник представляла собой византийская традиция в том виде, как она была истолкована древней Московией. Реформа Петра 1721 года не разрушила московскую версию византийской традиции. Петр просто адаптировал ее в соответствии с собственными идеями и насущными политическими требованиями. Поэтому как Православная церковь, так и российское государство, настойчиво подчеркивали религиозный и мистический характер царской власти, что продолжало находить отклик в народном мышлении не только после 1721 года, но и вплоть до революции 1917 года.
Царь принимал участие в важнейших событиях церковной жизни не потому, что имел право управлять Церковью, но потому, что был обязан покровительствовать ей в качестве «православного самодержца». Два фактора способствовали сохранению такого положения вещей. Во-первых, «самодержавие» царя никогда в Москве не было законодательно определено. Во-вторых, существовал предел в отношении Православной Церкви, которого никто не мог переступить, даже царь. Кроме того, каким бы влиянием он ни пользовался в жизни Церкви, внутренне она оставалась полностью автономной, управляемой Поместным Собором. Образ царя дает дополнительную черту московско-византийского наследия. Он был живым символом христианской царской власти, вверенной ему Богом, получая прямую и непосредственную связь с богом через церемонию миропомазания.
До Петра I служение Богу и Церкви сознавалось и носителями государственной власти, и всем русским народом как высший смысл и высшая цель самого существования государства, как конечное основание для всякого государственного деяния. После Петра правительство России ставило перед собой вполне секулярные, вполне автономные от религиозной санкции цели, а привилегированный статус Православной Церкви, ее «господствующее» в сравнении с другими религиозными общинами положение находило себе оправдание уже только в том, что Православие, согласно Основным законам Российской империи, являлось вероисповеданием государя и большинства его подданных. В российское законодательство вошло положение о главенстве императора в Церкви. Восходит оно к «Акту императора Павла о престолонаследии». В «Акте…» говорится о невозможности восшествия на Российский престол лица, не принадлежащего к Православной Церкви. Соответствующее место включает в себя и усвоение российскому государю статуса главы Церкви: «Когда наследство дойдет до такого поколения женского, которое царствует уже на другом престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с законом, для того что государи Российские суть главою Церкви, а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку». Это положение о невозможности занимать Российский престол особе, не принадлежащей к Православной Церкви, повторяет соответствующее место из завещания императрицы Екатерины I, составленного в 1727 г.: «Никто никогда Российским престолом владеть не может, который не греческого закона».
Для православного канонического правосознания допустима лишь такая интерпретация положения о главенстве императора в Церкви, которая подразумевает возглавление и представление императором сословия мирян, но не епископата. В таком смысле и интерпретировалось соответствующее положение в канонической и юридической литературе XIX в. большинством авторов. Так, А.Д. Градовский в своем толковании 42-й статьи «Основных законов» писал: «Права самодержавной власти касаются предметов церковного управления, а не самого содержания положительного вероисповедания, догматической и обрядовой стороны… Таким образом, компетенция верховной власти ограничивается теми делами, которые вообще могут быть предметом церковной администрации, т.е. не предполагают актов, по существу своему принадлежащих органам Вселенской Церкви, Вселенским Соборам». Некоторые авторы, однако, настаивали на том, что, хотя император и не может издавать законов о вере, устанавливать догматов, ему, однако, принадлежит в Церкви полнота власти, в том числе и законодательной. Так, Н.С. Суворов писал: «Император законодательствует в Церкви, поскольку она есть юридический порядок, основанный на традиционном Православии, не изменяя этого традиционного Православия и не внося в него новых догматов, но регулируя церковную жизнь в духе этого Православия». По интерпретации П. Е. Казанского, «Император – не посторонняя Православной Церкви государственная власть, но именно глава Церкви… По наиболее распространенному воззрению, государь император наследует в этом отношении власть византийских императоров».
Позднейшая трагедия отмены патриаршества Петром I была логическим завершением застарелого разлада отношений светской и церковной власти. Двоевластие не может быть терпимо ни в каком организме, в том числе и в государстве. Существовавшая конструкция при Синодальном периоде настолько противоречила духовным традициям страны, жизненному укладу большинства людей, что «могла функционировать лишь в условиях постоянной поддержки со стороны государства». Пиком этой системы стало царствование Николая I, когда взаимоотношение Церкви и государства обрели законодательный характер, что отразилось в своде законов 1832 года. Православие юридически признавалась господствующей религией, что могло поддерживаться только силовым путем, одновременно увеличивая зависимость Церкви от государства. Логика развития таких взаимоотношений требовала создания на месте Святейшего Синода соответствующего министерства, но это было не возможно. Поэтому вместо этого усилилась власть обер-прокурора. При Протасове (1836 – 1855гг.) Синод уже утратил связь с императором помимо обер-прокурора. Завершилось это созданием подобия министерства – «Ведомства православного исповедания», Св. Синод превратился в сугубо совещательный орган. Уродливость такого положения не могла быть не замечена, но «Церковь, (как Институт) и государство в России были слишком тесно связаны друг с другом». Единственным положительным моментом для нас было всколыхнувшиеся внимание прогрессивных мыслителей на эту проблему, давшие нам варианты ответов и осмыслений, пик которых приходится на XIX в. Но зависимость была и обратная, К.П. Победоносцев писал: «Отделение Церкви от государства было бы гибелью для Церкви и для государства в России». Поэтому государство, по замечанию другого обер-прокурора Извольского, «подавляя самостоятельность Церкви … старалось усиливать ее внешний блеск». И хотя Церковь искала свободы от государства, в тех условиях это было невозможно, т.к. вело к разрушению религиозной опоры власти подрывая «идеологический базис» на котором была основана империя.
К началу 20 века согласно Основным законам Российской империи первенствующей и господствующей в стране признавалась православная вера. Ее верховным защитником и блюстителем правоверия считался император, «в церковном управлении действовавший посредством Святейшего Правительствующего Синода». В свою очередь Святейший Синод ведал всеми делами Церкви, касавшимися «как духовного, так и мирского чина людей». Обер-прокурор Святейшего Синода являлся «блюстителем за исполнением законных постановлений по духовному ведомству»; он представлял доклады Синода императору и объявлял его повеления Синоду. Синод со дня своего образования стал орудием политической воли светской власти, в 19 столетии окончательно превратившись в исполнителя решений государства. По словам митрополита Евлогия (Георгиевского), «приниженность Церкви, подчиненность ее государственной власти чувствовалась в Синоде очень сильно», а «обер-прокурор направлял деятельность Синода в соответствии с теми директивами, которые получал. Синод не имел лица, голоса подать не мог. Государственное начало заглушало все». Примат светской власти полностью подавлял свободу Церкви, а долгая безгласность и подчиненность государству создали в Синоде не свойственные православным началам навыки «решать дела в духе внешнего, формального церковного авторитета, непререкаемости своих иерархических постановлений». Совершенно очевидно, что даже сугубо внутренние дела Церкви подлежали рассмотрению государственной власти.
Процесс огосударствления Православной церкви к 20 веку практически завершился. Церковь была интегрирована в государственную систему, как одно из учреждений «полезных государству» и предназначенных «служить его целям». Русская Церковь, внешне став административным учреждением («ведомством православного исповедания»), исполняла законодательно возложенные на нее функции. Православное духовенство вело запись актов гражданского состояния; предоставляло разнообразные сведения для земств, статистических и архивных комитетов, других гражданских и военных ведомств; осуществляло сбор пожертвований на различные нужды и в многочисленные благотворительные общества; занималось призрением неимущих и незащищенных слоев населения. На «ведомстве православного исповедания» лежала обязанность управления не только духовными учебными заведениями, но и низшими мужскими и женскими училищами, начальными школами. Не могли обходиться без священнослужителей российская армия и флот, пенитенциарные учреждения того времени. Одновременно Церковь исполняла обязанности мировоззренческой и нравственной цензуры.
Обер-прокуроры, возглавлявшие Синод в пореформенный период (после 1905 года), по-разному понимали природу самодержавия и православной церковности. Но на практике деятельность каждого из них обернулась для синодального присутствия, по выражению епископа Евдокима (Мещерского), очередным «аракчеевским веком». В основе всех обер-прокурорских программ, являвших собой образец мировоззрения высшей бюрократии, лежало представление о первенствующей роли государства в делах церкви, и все они были проникнуты стремлением сохранить неограниченное самодержавие. Поэтому на наш взгляд нельзя согласиться с Г.Фризом в том, что программа обер-прокурора Синода во второй половине XIX в. была либо либеральна, либо консервативна. Она всегда была последовательна в своем консерватизме. После отставки К. П. Победоносцева «престиж обер-прокурорской власти значительно уменьшился». Новейшие исследования показывают: «на закате самодержавия синодальная система не только не могла контролировать «государственную деятельность иерархов», но даже, по большому счету, не принималась ими в расчет». Не в последнюю очередь это было связано с сохранением коллегиального принципа работы синодального присутствия, делавшего власть обер-прокурора Синода менее устойчивой, чем министерская. Особенности в протекании процесса правового оформления института обер-прокуратуры Синода были обусловлены общим кризисом самодержавия после отмены крепостного права. Синодальное управление в России не имело оснований в учении и канонах православной церкви. В атмосфере открытой критики наследия графа Н.А.Протасова и неканоничности церковной реформы Петра I самодержавие уже не могло игнорировать этот факт в истории православной церкви, своего ближайшего союзника и опоры. В пореформенный период ни один проект, закреплявший за обер-прокурором права министра в отношении к присутствию Синода, не продвинулся дальше стадии обсуждения.
Каков бы ни был в императорскую эпоху относительный вес Церкви с одной стороны и государства с другой, обе силы были тесно взаимосвязаны. Государство оказывало полную поддержку Православной Церкви различными путями. Православие было господствующей верой в империи и пользовалось монополией в праве на религиозный прозелитизм. Оно осуществляло цензуру религиозного содержания всех книг. Епископы направляли духовенство для участия в заседаниях земских учреждений самоуправления. Губернаторы должны были действовать как «светская рука» Церкви во имя борьбы православия против ересей. Но, самое главное, Церковь пользовалась материальной поддержкой государства. Это стало необходимо после того, как церковная земельная собственность была секуляризирована в 1764 году. Лишенная своих традиционных средств существования и, не отыскав никаких новых, Церковь нашла в поддержке со стороны государства единственную альтернативу. Церковь отплачивала государству, поддерживая царя и его правительство. Такая верность по отношению к государству имеет очень древнюю традицию, ибо, как напоминает нам статья 4 Основных законов 1906 года, она укоренена в словах из Послания апостола Павла к Римлянам (13:5 «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести») и безусловно следует византийской традиции, получившей отражение в церемонии коронации императора. Но система, установленная в 1721 году, добавила такие черты, которые не восходили ни к раннему христианству, ни к византийскому обычаю. Они сделали Церковь частью российской политической системы, что стало вполне очевидно в словах клятвы, которую Церковь давала перед всем православным населением при восшествии на престол каждого нового монарха. Эта клятва включала обязательство информировать власти обо всем, «что может наносить вред или ущерб интересам Его Императорского Величества», и отвращать всякую возможную опасность. Более того, от священников требовалось сообщать полиции информацию о заговорах против императора или готовящихся покушениях на него или его правительство, даже в том случае, если эти сведения были получены на исповеди («на духу»). Совершенно ясно, что такое требование было не каноничным. От епархиальных властей и благочинных закон требовал, чтобы дезертиры, бродяги и лица без паспортов не находили убежища в деревнях их юрисдикции. Духовенство должно было провозглашать императорские манифесты, постановления и указы в храмах, и Церковь должна была использовать свой авторитет, чтобы заставить молчать или, во всяком случае, ослаблять всякую оппозицию правительству.
Накануне работы Поместного Собора 1917-1918 годов РПЦ находилась в состоянии серьезного кризиса. Оценивая дособорное состояние Церкви, И. Соловьев замечает, что такое положение вещей имело в своей основе утвердившиеся в результате реформ Петра нарушения канонического строя Церкви, тесную зависимость ее от государственной власти, доходящую в отдельных случаях до прямого диктата со стороны последней, попрание начал соборности в церковной жизни и утрату церковной свободы. Видимым проявлением этого неблагополучия являлось падение религиозности населения, постепенная утрата иерархии своего прежнего авторитета в обществе. Это неблагополучие тревожило многих представителей духовенства и церковной общественности, часть из которых, наблюдая за ростом негативных тенденций в церковной среде, стремилась бороться с недугами путем обличения, не осознавая, что эти средства недостаточны для отпавших из церковной ограды. Другая часть стремилась исправить положение через «обновление Церкви», осуществление реформ, направленных на восстановление канонического бытия Русской церкви, утверждение начал соборности церковного управления, освобождение Церкви из слишком тесных объятий государства. Далеко не все участники движения участники движения за церковное обновление того времени имели реформаторский пыл, присущий послеоктябрьскому обновленческому расколу. Среди дореволюционного обновленческого движения было немало сторонников церковной свободы, ратовавших за восстановление патриаршества и созыв церковного Собора. Конечно, и здесь были различные оттенки во мнениях, и даже диаметральная противоположность во взглядах. Были «христианские социалисты» и мечтатели об открытии «новой церкви Святого Духа». Однако их влияние на церковную жизнь оставалось не столь значительным. О существовании их мы знаем большей частью благодаря близости некоторых их представителей к органам либеральной печати. Надвигалось страшное для Церкви и для всей России время. Февральская революция, свержение православной монархии, роспуск «старого» Святейшего Синода, давление со стороны государственной власти на Церковь, вмешательство во все церковные дела.… В связи с этими переменами уже в начале 1917 года «о статских и иных советниках в России не было и помину».
Анализируя основные принципы церковного управления в синодальный период, необходимо указать, что упразднение патриаршества и учреждение нового, неизвестного до этого, коллегиального органа управления явилось грубым нарушением 34 апостольского правила, которое повелевает: «епископам всякого народа подобает знать первого из них, признавать его как главу и ничего превышающего их власть, не творить без его разрешения; творить же каждому только то, что касается его епархии и мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святой Дух».
Подчинение «безглавого» Синода светским властям стало другим антиканоническим шагом. Как свидетельствует А. В. Карташев, Члены Синода были обязаны давать следующую, оскорбительную для архиерейской совести, присягу: «Исповедую же с клятвою крайнего судию Духовной сей Коллегии быти самого Всероссийского монарха государя нашего всемилостивейшего».
Более двух столетий Русская Православная Церковь велением Российских монархов должна была управляться антиканоничным Коллегиумом под императорским началом. За весь Синодальный период, не было созвано ни одного Поместного или Архиерейского Собора, что негативно отражалось на церковной жизни отдельных епархий, приходов и монастырей, находящихся на территории огромной Российской империи. «Каноническая ущербность Синодальной системы, порожденные ей острые вопросы епархиальной церковной жизни, лишение Православной Церкви государственной защиты в результате Манифестов о свободе совести 1905 – 1917 годов и связанная с этим необходимость преобразований приводят к осознанию почти всеми в Церкви безотлагательного созыва Поместного Собора» – пишет священник Т. Тихомиров.
С ликвидацией монархии и падением Российской империи начался новый период в развитии Русского церковного законодательства. С целью преобразования, реставрации патриаршества, разработки нового Устава и разрешения многих наболевших недоуменных вопросов был созван в 1917 году Поместный Собор Русской Православной Церкви. «Собор явился результатом единственного в своем роде за всю историю Русской Православной Церкви соборного процесса, – считает владыка Кирилл, – вовлекшего в свободную и творческую дискуссию выдающихся представителей иерархии, клира, монашествующих и мирян. В том, что касается церковного управления, Собор стремился максимально выразить основы Православной экклесиологии и каноники в подобающих внешних структурах. Церковь получила, коллегиальные, выборные и представительные органы управления. С четким разграничением прав и обязанностей всех звеньев и уровней церковной администрации. В частности, устанавливалась регулярность созыва Поместного Собора и ответственность перед ним Патриарха и органов церковного управления Собор создал инструменты, призванные осуществлять в повседневной жизни Церкви принцип соборности. Не смотря на то, что решение Собора не были претворены в практику, они всегда воспринимались церковным сознанием как особо авторитетные, имеющие некий нормативный характер».
79. Государство и церковь. Светские и теократические государства
В переводе с греческого слово «церковь» буквально означает «дом Бога», «дом Господний». Ив узком смысле под «церковью» понимают здание для отправления обрядов христианской религии, имеющее определенные атрибуты.
Вшироком смысле «церковь» - это особый тип религиозной организации, объединение последователей той или иной религии на основе общности вероучения и культа.
Главные признаки церкви:
а) наличие более или менее разработанной религиозной (догматической и культовой) системы;
б) иерархический характер, централизация управления;
в) разделение принадлежащих к Церкви на духовенство и мирян (рядовых верующих).
Церковь во все времена играла важную роль в жизни общества. Уже в раннеклассовых обществах, существовавших в форме городов-государств, имелось три центра управления - городская община, дворец и храм.
Существует два основных вида взаимоотношений церкви и государства:
а) наличие государственной церкви, у которой закреплено ее привилегированное положение по сравнению с другими вероисповеданиями;
б) режим отделения церкви от государства и школы от церкви.
Статус государственной церкви предполагает, кроме привилегий, тесное сотрудничество государства и церкви в разных областях общественной жизни. В дореволюционной России такой статус принадлежал Русской Православной Церкви. В Великобритании официальной государственной церковью является англиканская (протестантско-епископальная) церковь, главой которой выступает монарх. Почти в тридцати мусульманских странах государственной религией официально признан ислам.
Статус государственной церкви характеризуется следующими моментами:
1. За церковью признается право собственности на широкий круг объектов - землю, здания, сооружения, предметы культа и т. п.
2. Церковь получает от государства различные субсидии и материальную помощь.
3. Церковь наделяется рядом юридических полномочий (в основном в области брачно-семейных отношений).
4. Имеет право участвовать в политической жизни, в частности, через свое представительство в государственных органах.
5. Обладает широкими полномочиями в области воспитания и образования подрастающего поколения. Как правило, в образовательных учреждениях предусмотрено обязательное преподавание религии.
Для режима отделения церкви от государства (Россия, Франция, Германия, Португалия и др.) характерно следующее:
1. Государство регулирует деятельность религиозных организаций, осуществляет контроль за ними, но не вмешивается в их внутреннюю, внутрицерковную деятельность.
2. Государство не оказывает церкви материальной, финансовой поддержки.
3. Церковь не выполняет государственных функций и вообще не вмешивается в дела государства: занимается лишь вопросами, связанными с удовлетворением религиозных потребностей граждан.
4. Отношения между государством и церковью строятся на основе юридически закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания, что предполагает свободу выбора религии и убеждений, отсутствие права государства контролировать отношение своих граждан к религии и вести их учет по религиозному принципу, равенство всех религиозных объединений перед законом.
Нормальное состояние взаимоотношений государства и церкви предполагает их сотрудничество, партнерство в решении насущных общественных задач, а не полную изоляцию друг от друга.
Статья 14 Конституции современной России гласит: «1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».
На основе этих положений Конституции государственно-конфессиональные отношения в России регламентируются Законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 19 сентября 1997 г., который каждому, находящемуся на территории РФ, гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания.
В Советском государстве религиозные организации вообще исключались из политической системы социализма. В современной России религиозные объединения (именно объединения, а не отдельные верующие) не могут вмешиваться в дела государства и участвовать в выборах органов государственной власти и управления. Провозглашен также светский характер системы государственного образования.
Секуляризация, то есть освобождение от влияния религии (в узком смысле «секуляризация» означает процесс обращения церковной собственности в светскую), к XX в. стала универсальным принципом организации политической жизни. В настоящее время многие страны закрепили в своих конституциях светские основы государственной власти. И с этих позиций теократия может рассматриваться как исторический анахронизм. Вместе с тем проблематика теократической государственности сохраняет свою актуальность в связи с активизацией теократической тенденции, теократизацией политических процессов в ряде стран. В России тому примером может служить Чеченская республика, где предпринимаются попытки создания исламского государства.
В литературе под «теократией» понимается форма государства, где политическая и духовная власть сосредоточена в руках одного человека - главы духовенства, признаваемого в качестве «земного божества», «первосвященника» и т. д. Традиционно к теократическим государствам настоящего времени относят Ватикан и Иран, где организация публичной власти возглавляется лидером духовенства. Вместе с тем в литературе имеется обоснованная точка зрения, что в выявлении теократических тенденций современного общества необходимо принимать во внимание весь комплекс взаимодействия государственной власти с социальными институтами, а не только структуру верховного управления (Е.Н. Салыгин).
Теократическая модель общественно-политического устройства предполагает:
1. Признание верховного божества, передающего полномочия государственного управления особым лицам (единовластному правителю), то есть обожествление фигуры правителя.
2. Вселенское государство верующих без национальных границ, что провоцирует вмешательство во внутренние дела других государств, террористические акты и т. п.
4. Примат религии над правом: регламентация основных сторон жизни общества производится не правом, а системой религиозных норм, которая обеспечивается силой теократического государства. По существу, религиозные нормы в данном случае - это и есть «право». Например, такие мусульманские страны, как Оман, Ливия, Саудовская Аравия, обходятся без конституции - ее роль выполняет Коран.
5. В теократически организованном обществе существует не просто государственная религия, арелигиозное государство, то есть государство представляет собой религиозную организацию в масштабе общества со всеми атрибутами государственной власти.
6. Жесткую иерархию и централизацию государственного аппарата, сосредоточение огромных полномочий у главы государства, бесконтрольность администрации.
7. Отсутствие разделения властей и системы сдержек и противовесов.
8. Деспотические и абсолютистские формы правления.
9. Религиозное начало, которое исключает идеалы свободы и прав человека.
10. Особое положение женщины, которое, в частности, включает запрет на участие в управлении делами государства.
11. Неправовые (внеправовые) способы разрешения споров, конфликтов, телесные наказания (членовредительские экзекуции) и т. д.
12. Запрет на создание политических партий (Иордания, Бутан, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия) или разрешение только тех партий, которые утверждают ценности ислама (Алжир, Египет).
Таким образом, теократические тенденции в организации общества и государства следует в основном оценивать негативно. Положительные результаты сотрудничество государства и церкви дает лишь на основе принципа свободы совести, светской организации государственной власти.*
* В изложении вопроса использованы материалы, опубликованные Л.А Морозовой и Е.Н. Салыгиным.
| " |